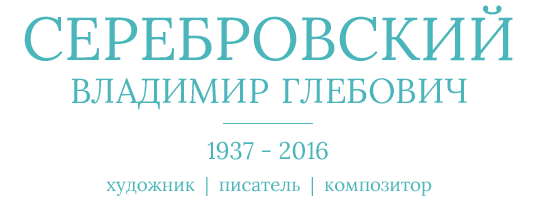О себе
Я родился в театральной семье. С детства в театре. Отец – бас - поет, мать – балерина - танцует, а я околачиваюсь за кулисами. Поэтому все было предрешено. Хотя мама хотела, чтобы я стал музыкантом, и я с пяти лет учился в музыкальной школе, а отец - чтобы художником. Он сам рисовал, как любитель, масляными красками неплохо.
Когда профессор музыкального училища сказал: « я возьму тебя к себе после окончания музыкальной школы, но надо заниматься у рояля более шести часов в день», я ответил: «Спасибо, не надо»,- и поступил в художественное саратовское училище, причем без экзаменов и сразу на второй курс, потому что первый курс была акварель, а я уже рисовал (с семи лет) маслом, и когда они посмотрели мои работы, то сразу меня приняли.
Огромную роль в моей жизни сыграл Николай Михайлович Гущин. Это замечательный художник, которого, к сожалению, никто не знает. Он уехал во Францию в 1918 году и вернулся в 1948. Жил в Саратове, занимался реставрацией в местном музее. Познакомился с моими родителями, и я был с детства окружен его картинами, которые по направлению – скажем так, символизм, а некоторые просто абстрактные, пейзажи, переходящие в абстракцию. У него была своя лодка, и мы с ним уезжали на Волгу. Он рисовал, а я сидел рядом. Думаю, что вот такая традиционная, идущая еще от средних веков ситуация: учитель работает, а ученик сидит рядом с ним и краски размешивает, это и есть настоящая учеба, чего я не могу сказать о будущих своих педагогах, - у меня такое впечатление, что они мне ничего не дали. И гораздо больше давали те, кто был рядом: студенты, в частности мои друзья по ВГИКу.
Во ВГИК я поехал после окончания живописного отделения училища (декорационного там не было). Я хотел поступить именно во ВГИК, считалось, что там более свободная художественная атмосфера, чем на декорационном факультете института им. Сурикова. Поэтому именно во ВГИКе тогда собралась такая компания, как Левенталь, Бойм, Двигубский, Ромадин, Алимов, Кузнецов, словом, скажем, цвет нашей театральной и кино декорации в последующие, да и в нынешние годы. У них-то я многому и научился. Набирал нас всех Федор Богородский, удивительный человек, потому что, будучи представителем соцреализма в плохом смысле слова (потому что есть соцреализм и хороший), он внутри оставался очень живым человеком, ездил постоянно в Париж. В 20-е годы писал стихи, и предисловия к их изданию писал сам Хлебников. Когда мне ставили тройку «за левизну», он подходил в коридоре и говорил: «ничего, все нормально, все хорошо». Так же поддерживал он и моих друзей, потому что мы, конечно, "левачили" все, академическая же программа требует строгости, чего мы не всегда понимали.
Несмотря на то, что я учился во ВГИКе, я заранее знал, что в кино работать не стану. И даже диплом получил, в котором написали «художник кино и театра» (что было исключительным случаем), - потому что мы с Мишей Ромадиным, на предпоследнем курсе сделали спектакль «Тиль Уленшпигель» в театре Киноактера. Правда, потом я все же сделал декорации к нескольким фильмам, и окончательно убедился, что это дело не для меня.
Еще до окончания ВГИКа я получил приглашение поработать в небольшом театре группы советских войск в городе Потсдаме. Но там я практически ничего не сделал как художник (был слишком "левый"). В трудовой книжке моя должность там записана, как артист оркестра, потому что я играл там, на рояле и на гитаре.
В Москве первым моим спектаклем стал «Фунт мяса». Существует избитая фраза: «на утро он проснулся знаменитым», со мной случилось именно такое. После премьеры я получил записку от незнакомой дамы - искусствоведа, Елены Ракитиной, которая захотела со мной познакомиться. Мы с ней встретились в ВТО. Она написала для журнала "Театр" статью о выставке «Итоги сезона», куда я подал свой эскиз, а журнал «Театр» опубликовал еще и цветную репродукцию эскиза моей декорации. И после этого сразу пошло-поехало, как-то очень резко и быстро.
Мне повезло еще и в том, что на "Фунте мяса" я встретился с Володей Андреевым, и с тех пор мы многие годы сотрудничали. От общения с ним у меня остались самые лучшие воспоминания. Работать с ним было удивительно легко. Он любит живопись. Вся квартира у него обвешена картинами. И он понимал и принимал мои предложения по оформлению.
В то время в театре уже можно было делать все, что угодно. Например, мне удалось одним из первых сделать даже чисто абстрактную декорацию в оперном театре Свердловска в «Искателях жемчуга», а в пантомиме «Мертвые души» (театр Киноактера) ввести поп-арт: там, у Плюшкина, например, стоял настоящий холодильник, а вместо солнца висел медный таз; Собакевич ходил в кожаной куртке и крагах. Эдик Кочергин, когда увидел «Мертвые души», сказал мне, что он очень удивлен тем, что это, оказывается, "разрешается", и все в нем после этого просто перевернулось. Но мы не стремились к какому-то специальному эпатажу, - спектакль был, по-моему, точным проникновением в суть Гоголя. Тем более, что курс во ВГИКе вел Румнев, знаменитый актер Камерного театра, выдающийся мастер пантомимы, а Чичикова прекрасно играл Игорь Ясулович, который сейчас, когда ему уже за шестьдесят, вдруг так запоздало прославлен и получил разные награды и звания, но великим актером он был уже тогда, в тех наших давних «Мертвых душах».
За всю жизнь у меня был только один запрещенный властями спектакль – балет «Ромео и Джульетта» Прокофьева в Свердловске. Там из увеличенных во всю высоту и ширину сцены картин Возрождения были вырезаны дома, окна, двери (к примеру, в гигантской фигуре святого Себастьяна). Получался немножко такой Сальвадор Дали. Худсовет театра счет это издевательством над произведениями великих живописцев. И когда я предложил балетмейстеру переделать декорацию, чтобы спасти спектакль, эта удивительная женщина, Софья Тулубьева сказала: «Нет, я вижу постановку только в этой декорации». И в результате из-за меня пожертвовала своей собственной работой, потому что спектакль играть не разрешили. Я еще предложил пригласить в качестве третейского судьи кого-нибудь из Москвы. Из ВТО приехал художник Василий Шапорин и... полностью поддержал Худсовет, сказав, что эта декорация, действительно, издевательство. Меня его позиция поразила – и тогда и сейчас, потому что среди театральных художников всегда было принято друг друга поддерживать, мы все очень спаяны и никогда не раскалывались ни на какие группы, правые или левые, или какие-то еще, а старались держаться вместе.
Кроме этого случая, у меня все складывалось довольно гладко. Я работал во многих театрах разных городов, сделал массу спектаклей, оперных, балетных, драматических и все они получали положительные отзывы.
Вторым, после «Фунта мяса», спектаклем в Москве стал «Бал воров» Ануйя в том же театре им. Ермоловой, где тогда работали великие актеры Лекарев, Якут, Соловьев. И все они играли в моем спектакле. И придуманную мной, для них мальчишкой, хотя мне тогда уже исполнилось 27 лет, по тем временам авангардную декорацию они приняли спокойно и доброжелательно. Я придумал некую абстрактную конструкцию из палочек на цветном фоне. Она оставляла впечатление легкости и выглядела яркой. Какие-либо конкретные приметы отсутствовали – ни богатого дома, ни парка. Я стремился создать атмосферу театральной игры, «театра в театре», идея которого меня тогда увлекала. В те годы параллельно возникло увлечение "вещизмом" на сцене, натуральными фактурами – у Боровского и у тех, кто следовал за ним. Я шел другим путем именно потому, что всегда видел смысл театра в игровом начале. Может быть, поэтому и создавал на сцене такое настроение. Там присутствовала не "вещь", а иллюзия "вещи". Избегал делать советскую драматургию, особенно на военную тематику, которая требует серьезного подхода, как у того же Боровского в «Зорях тихих».
Тогда я находился под большим влиянием потрясающего итальянского художника Эмануэлле Луццати. Я имел счастье познакомиться с ним лично, правда, очень коротко, когда он приезжал в Москву во время гастролей Туринского драматического театра. Сначала нас представили друг другу за кулисами, затем мы встретились на какой-то квартире, общались, и потом он присылал мне свои книги.
Из спектаклей в периферийных театрах можно вспомнить оперу «Искатели жемчуга». Об этой работе, как об истории с «Ромео и Джульеттой», я подробно рассказал в статье «Главное – действие» (публикуется далее - В.Б.). До этого там же была опера «Ромео, Джульетта и тьма» К.Молчанова. Там я поставил на сцене настоящий мотоцикл и начинался спектакль с того, что персонаж его заводит. Раздаются повторяющиеся характерные звуки; «ту-ту-ту, ту-ту-ту». И однажды из зрительного зала раздался голос: «проверь свечи!».
И в живописи, которой я все время занимался параллельно с театром, я оставался абстракционистом. То, что я находил в живописи, тут же переносил в театр. Очень часто мне приходилось самому исполнять свои декорации - исполнители не понимали, как сделать то, что мне было нужно, и более того, иногда даже саботировали. Тогда я брал кисть, краски, сам мазал, брызгал краской в духе Джексона Поллака, что-то наклеивал, фактурил, стремился к тому, чтобы декорация была, прежде всего, красивой. И всегда, даже в «Искателях жемчуга», где была полностью абстрактная декорация, после открытия занавеса раздавались аплодисменты зрителей, - видимо, воздействовала красота сияющего голубого "зафактуренного" фона, на нем сияющая конструкция в виде бабочки, выполненная из металла и фанеры, оклеенных серебряной, черной, золотой бумагой, с вкраплениями черного бархата и других материалов, что создавало ощущение необычайной красоты. Причем, все делалось, из подсобных материалов, то есть я был художником «бедного театра», но добивался, однако впечатления эстетического богатства.
Поиски в этом направлении нашли логическое завершение в спектакле «В горах мое сердце» Сарояна, который мы сделали с Юрием Григоряном в Смоленске. Ящики мы набрали в огромном количестве на тарной базе, и я сколотил из них "небоскребы", они образовали причудливую композицию. Актеры катали по сцене шины и бочки. Действие происходило на американской свалке, где-то на окраине Нью-Йорка.
Была еще одна неосуществленная работа с Эфросом – «Орфей» Ануйя, где я хотел эстетику свалки довести до полной красоты: все, и вещи и люди, должно было находиться под целлофановой пленкой и освещаться фантастическим образом. Но Эфросу не разрешили ставить пьесу
Многие идеи мне удалось воплотить на сцене Душанбинского театра оперы и балета.
Кстати, балеты было легче совмещать с абстрактной декорацией, потому что там чаще всего нет реалистического сюжета. Самой яркой постановкой я считаю балет «Любовь - волшебница».
Описывать декорацию – дело довольно безнадежное и, как вы могли бы заметить, я стараюсь избегать этого. Чем удачнее решение на сцене, тем труднее найти ему словесное выражение.
Я не стремился в "Любовь – волшебнице" с ее предельно условным сюжетом изобразить конкретное место действия. Дух Испании достигался сочетанием фактур, цвета и света: черный бархатный полог, в котором я вырезал дыры (намек на испанское кружево) и сияющий – сложно апплицированный - алый задник (символ страсти), благодаря чему и возникало ощущение напряженности, драмы, столкновения сильных характеров. Худсовет, конечно, с удивлением взирал на новшества московского художника, но сочли, что "так полагается". Тем более что на премьеру приходил министр культуры, после закрытия занавеса подходил ко мне, обнимал, и уезжал, не оставшись на обсуждении. Видя это, члены Худсовета единогласно проголосовали "за". Кстати, замечательный был министр культуры - Мехрубон Назаров.
Там же я оформил балет Равеля «Дафнис и Хлоя». Поскольку я в то время увлекся коллажем, то и декорации выполнил в этой манере. Но прием я выбрал, как теперь понимаю, не случайно, не из прихоти. Фон и оформление сцены стали коллажем наших представлений о Греции, которые вобрали в себя колонны Парфенона и фрагменты картин Пуссена, обломки скульптур и атрибуты современности (автостоянка), которые вписываются в "культурный слой" Греции.
Есть художники, которые остаются приверженцами определенного направления. Что является их силой и слабостью одновременно. Их сразу узнают, Но и не ждут ничего нового.
У меня получалось иначе. Мне было скучно оставаться в рамках найденного, пусть даже и признанного, стиля.
Не всегда, даже осознанно для себя, я начинал менять новые приемы, новые сценические решения. Вот так неожиданно я пришел к "гиперреализму", а потом и к "новому реализму". Этот поворот случился даже раньше, чем в живописи. Толчком послужила поездка в Германию. Режиссера В.Андреева пригласили в Магдебург поставить "Якова Богомолова" Горького. Естественно, что я, как его художник, поехал с ним. Когда я начал делать эскиз, я понял, что перед заграницей нужно не ударить в грязь лицом. Особенно в Германии, где хорошая школа сценографии, я знал работы их художников. Хотелось показать что-то необычное, то, что немцы не очень хорошо знают о русской жизни.
На сцене - усадьба, яблоки, рассыпанные на полу застекленной веранды. Веранда и сад, который просматривался за ней, создавали ощущение озаренного, пронизанного светом пространства необычайной глубины. Эта декорация в духе "нового реализма" немцев поразила. У них тогда никто так не работал. Сейчас такого рода декорации начали появляться, у того же П.Штайна, например.
Действие многих русских пьес часто происходит на фоне природы. И мне хотелось и в декорации противопоставить гармоничный мир природы с не гармонией человеческих взаимоотношений. Залитый светом сад становился уже не просто "реалистическим" фоном, он превращался в символ "утраченного Эдема", разрушенной гармонии, которую тщетно стремятся обрести герои пьес.
Немецкая публика, немецкие критики поняли, какую задачу я поставил, и приняли мой "новый реализм" с восторгом.
Спустя два года там же, в Магдебурге, я оформил «Три сестры». Все места действия я объединил в единую декорацию. К тому же я всегда любил единую декорацию. Гостиная и еще две комнаты, и березы за окном просматривались одновременно. Декорация снова имела большой успех, – немцы увидели мир русской провинции, то, чего они не знают.
Реалистические декорации я стал пытаться делать и в Москве. Но тут их воспринимали гораздо хуже. Хотя Александр Павлович Васильев уже сделал «Лес» (причем раньше меня года на два). Мы пришли к "новому реализму" независимо друг от друга. Но и на признанного классика все тогда смотрели с удивлением и не поняли. После Васильева мне с эскизом «Якова Богомолова» было все-таки чуть проще. Хотя тоже с удивлением, но его как-то приняли. Эскиз сразу взял к себе Бахрушинский музей.
По-настоящему осуществить "новую реальность" в декорации мне удалось в работе с Григоряном над спектаклем «Поздняя любовь» Островского.
Вскоре после этого режиссер Говоруха пригласил меня сделать в театре имени Пушкина «Дети солнца» Горького. Я сделал опять свою любимую застекленную террасу, с прекрасным садом за окнами. Он посмотрел, вздохнул и сказал: «Нет, мне нужна ломанная, наклонная конструкция, чтобы актеры могли по ней, бегать вверх-вниз, влезать, залезать, А тут, в такой декорации требуются слишком хорошие актеры». И, действительно, если для актеров нет каких-либо вспомогательных (в смысле беганья, лазанья) средств, то надо просто хорошо играть, как играли когда-то артисты МХАТа.
В результате раньше, чем в Москве, я такие декорации смог реализовать сначала в провинции, где считалось, что если художник прибыл из столицы, то там уже это все пошло. Когда режиссер Селимова пригласила меня в Баку сделать «Иванова» Чехова, она сказала: «я вижу.. это как искореженный, разбитый автомобиль, и внутри что-то белое, это Сара». Таким ей виделся образ спектакля. Я сказал: «Нет. Это будет золотая осень». Несколько мешков листьев мы навязали на сетки. А поскольку по пьесе нужно было показать два дома, то меняли мебель, а павильон оставался один и тот же – терраса и золотой осенний парк в глубине. Потом в Баку я сделал еще «Варвары» в том же стиле "нового реализма".
Таким образом, я открыл для себя реализм, хотя сам считал это гиперреализмом и сначала это было, действительно, гиперреализм, но потом постепенно перешел к более красивому стилю, корни которого восходили, к тому, что называется традицией «Мира искусства». Таким я остаюсь и до сих пор – стремлюсь работать в этой традиции начала ХХ века, которая одно время заглохла, потому что конструктивизм и мощные художники таировского и мейерхольдовского театра "задавили" мирискусническое направление.
Мне захотелось вернуть на сцену красоту и вкус художников «Мира искусства». В этом же направлении тогда начал по-своему работать Сергей Бархин, он тоже отталкивался во многом от графики и красоты «Мира искусства». Мы с ним тогда очень сблизились, и однажды он даже предложил сделать вместе одну пьесу (забыл какую, но классическую, может быть даже какую-то шекспировскую) так, чтобы один акт делал он, а другой – я, причем заранее ни о чем, не договариваясь. И режиссер Корогодский согласился на такой эксперимент, но по разным причинам затея эта не осуществилась. То ли я был занят, то ли помешало еще что-то.
Во МХАТ я пришел в 1988 году, когда вместе с Данченко делал здесь «Вишневый сад». Данченко сразу согласился на реалистическую декорацию. Я сделал ее на поворотном круге, – сначала был интерьер, а когда круг поворачивался, обратная сторона павильона изображала фасадный вход в этот дом. В глубине – деревья, задник. Почему-то всегда вишневый сад изображают под окнами. Но это неверно. Сад был всегда на некотором расстоянии от дома, и это были не вишни, а другие деревья, липа или какие-то большие деревья. Так я и сделал. Замечательно играла Татьяна Васильевна Доронина. И весь спектакль был какой-то нежный, хороший и идет он до сих пор.
После этой работы Татьяна Васильевна предложила мне войти в штат. Совпали наши эстетические воззрения. И больше десяти лет я работаю рядом с великой актрисой, и это большое счастье для меня.
За всю историю МХАТ было, насколько я знаю, всего два главных художника – Симов и Дмитриев. Я оказался третьим. Забавно, что Дмитриев приходится нашей семье (по линии мамы) дальним родственником. Во время войны, когда МХАТ находился в Саратове, он с семьей жил у нас. Очень часто у нас собирались знаменитые артисты, музыканты, играли на рояле, пели. Жаль, я был настолько мал, что почти ничего не запомнил. Но дух МХАТа витал в нашем доме – и после войны мой отец работал с Дмитриевым над оперой "Борис Годунов". Эскизы к спектаклю стояли в нашем доме, и это я очень хорошо помню, потому что уже сам начал рисовать. И когда мы восстановили «Три сестры» в классических декорациях Дмитриева, я ощутил родство с ними того, что делаю сам.
В театре Дорониной у меня началась хорошая спокойная жизнь: когда работаешь с одним режиссером и в одном театре, и когда тебя полностью понимают. Когда-то у меня не получилось содружество с Эфросом. Он мне откровенно сказал: «я ищу постоянного художника. Вот я Левенталю предложил поработать, и Вам предложил». Но мне не повезло, потому что в то время как Левенталь делал «Женитьбу», я – Ануйя (о чем уже говорил). Но Ануйя запретили, и вместо этого Эфрос предложил мне какую-то ужасную советскую пьесу, кажется, называлась «Снятый и назначенный», и декорация должна была показывать современную действительность, что мне было совсем не интересно. Еще я делал с Хейфецом «Фиеско в Генуе», Вроде в результате все получилось. Декорация понравилась, но, по ощущению, она какая-то не моя, это не я.
А вот с Татьяной Васильевной Дорониной во МХАТе им. Горького получилось все как-то сразу, потому что она любит в декорациях красоту и любит театр в самом высоком смысле слова. И не терпит грубого натурализма, грязи, всякой такой гадости. Мы стремимся на сцене к тому, чтобы люди аплодировали при открытии занавеса. Татьяна Васильева умеет подавать декорацию. Она всегда дает возможность зрителю войти в атмосферу спектакля. Так поступают далеко не все режиссеры, они стремятся в первую очередь показать себя, свою работу.
Мы оба очень любим русский модерн начала ХХ века и живописные декорации. В этом духе были решены многие спектакли, например, пьесы "Медведь" Чехова и "Зыковы" Горького. В пьесе "Медведь" – портал представлял нечто вроде альбомного листа с открытками начала века, с орнаментом в стиле модерн, а за порталом – моя любимая терраска и зелень сада.
В пьесе "Зыковы" интерьер (модерн) сочетался с писаным задником (сосновый лес).
В «Доходном месте» Островского я сделал интерьер в стиле петербургского ампира с порталом. Портал не случайно присутствует во многих спектаклях. Не только потому, что у нас очень большая сцена, и мы часто ее таким способом сжимаем, но и потому, что Татьяна Васильевна и я любим, чтобы была рамка, в которую были помещены и декорация, и актеры. Без рамки портала все смотрится как-то оборвано. Мы всегда стремимся полностью замкнуть декорацию со всех сторон и сделать ее такой, чтобы в ней можно было, как бы жить.
С режиссером Усковым я сделал пьесу Виктора Розова «В день свадьбы». Действие происходит в единой декорации. Я сам написал двадцати пятиметровую панораму с пейзажем Волги и домиками на другой стороне реки, окна которых загорались, когда темнело. Все это создавало ощущение простора. На первом плане – кусок дома и кусок сарая. Все совершенно натурально, чего и просил Усков, пришедший в театр из кино, а киношники требуют достоверности, натуральности, чтобы все было сделано по настоящему, и это хорошо. Розов, ранее уже видевший у нас «Лес», который ему очень понравился, был тронут тем, как мы показали его пьесу.
"Лес" Островского – очень дорогая для меня работа. Действие в нем происходит на природе, которую я очень люблю изображать на сцене. Пейзажи-задники сменяют друг друга: дорога в лесу, парк у барского дома, ночное озеро и другие.
С удовольствием я делаю и зарубежную классику - Кальдерона, Лопе де Вега, но без того душевного чувства, которое возникает при работе над русской классикой. Там все очень декоративно, шпаги, плащи. В пьесе Лопе де Вега «Умная для себя, глупая для других» – облегченный вариант дворца, единое место действия – галерея, арки, словом, все достаточно традиционно. Все на фоне "роскошного" задника, изображающего идеальную Италию.
Хотя я показываю на своей сцене только реалистические декорации, я могу в принципе работать и совсем по-другому. Если нужно будет и если это потребуется режиссеру, могу сделать любую декорацию, и абстрактную, и какую угодно, потому что через все это я прошел. Другое дело, что сейчас это мне не близко и нашему театру это не нужно, хотя мы позволяем другим режиссерам, которые приходят в наш театр работать как угодно и делать, все, что им заблагорассудится. Так у нас работали и Борисов с Сотниковым, Белякович, Виктюк и другие.
Аналогично театральному, происходили повороты и в моем понимании живописи, во многом под влиянием Востока. Восток в моей жизни возник сначала случайно, потому что меня пригласили в Душанбе оформить ряд спектаклей. Мне страшно не хотелось туда ехать, - какой Восток я про него тогда ничего не знал. Но уже тогда я почитывал разные книжки по индийской философии. Но когда я приехал туда и этот Восток увидел, он затянул меня в себя как в омут, хотя до этого я был западником, любил Германию, хорошо знал западную живопись, в том числе и современную.
Восток повернул меня на сто восемьдесят градусов. Я бросил масляную живопись, подарил краски своей приятельнице-художнице, два года ничего не рисовал и не писал, а потом начал как бы с нуля гуашью и темперой уже на бумаге и на картоне. Несколько лет я посвятил изучению буддийской иконографии, рисовал мандалы, индийский эпос "Рамаяна", иллюстрировал Тагора и так далее. Это был у меня такой восточный период. А в итоге пришел к реализму, потому что, когда ходил по горам и смотрел на красоту горных пейзажей, то все время думал: «Вот если бы все это увидел еще кто-то, кроме меня». И пытался все это написать. Сначала не очень получалось, так как от такой живописи я отвык. Но быстро восстановил в себе навыки, приобретенные в институте в процессе академического обучения. Делал горные пейзажи, которые нигде не выставлял, - это были точные изображения того, что я видел во время путешествий по Памиру.
Пройдя школу "восточного" восприятия действительности я пришел к "новому реализму".
Мое "Путешествие на Восток" длилось в перелетах между Москвой и Душанбе 25 лет. А еще были: Непал, Япония и несколько поездок в Индию. И как итог – выставка в музее Востока под названием "Храмы и сады Востока".
А когда я окончательно вернулся в Россию (в Таджикистане началась война), русская природа сначала показалась ужасно унылой. Зеленый цвет летом казался совершенно однообразным после фантастических голубых и фиолетовых гор. А затем увидел Россию как бы заново и заново открыл для себя красоту русского пейзажа и понял, что его, в сущности, мало кто из художников передавал. Потому что, если брать реалистов, передвижников, то ведь они во многом оставались социальными художниками, - в том смысле, что в изображение природы зачастую вносили свои убеждения и показывали Россию убогую: пейзаж – всегда с тучами. Например, «Над вечным покоем» – ведь это тоскливая картина, это гибель России: темные тучи, серая Волга и на первом плане кладбище, кресты. Почти никто из них не рисовал цветущие поля, луга и сады. А ведь какая это красота - идешь по колено в фантастическом море цветов! Не отсюда ли родились русский ситец, росписи матрешек, подносов и платков?
И вот я ушел целиком в воспевание красоты русской природы. Да и в самой Москве я нашел массу удивительных уголков: – Сокольники, Измайлово, Кузьминки, Ботанический и Нескучный сады, и все другие зеленые массивы
Мне кажется, что русские пейзажи у меня имеют ту особенность, что я на Россию посмотрел, пройдя через Восток. И проявляется, как мне кажется, прежде всего, в отсутствии "материальности". В восточной философии мир воспринимается, как некая иллюзия. Может быть, поэтому мои пейзажи переходят в орнаментику, а иногда даже и в абстракцию, как ни странно. Таким образом, я как бы возвращаюсь к той же абстракции, с которой начинал, только теперь иду не от Запада, а от Востока. Изображаемое растворяется в ажуре, в бликах, в переплетении веток, - вот это все мне дал Восток.
Под знаком Востока происходили и мои занятия музыкой. Одно время я работал в студии электронной музыки при музее им. Скрябина. Там появился первый в Союзе стационарный синтезатор, и вокруг него собирались выдающиеся ныне композиторы Эдуард Артемьев и Владимир Мартынов. В этой студии мы собирались почти каждый вечер. Мы были друзьями. В этой студии я написал музыку к нескольким спектаклям.
Потом в моих занятиях музыкой образовался перерыв, потому что студию закрыли. В одну из моих поездок в Индию я купил индийские инструменты (ситар, тампуру), научился на них играть, а сейчас, когда появилась возможность создавать музыку на компьютере, каждый вечер сижу и, не отрываясь, сочиняю свои музыкальные композиции. Собираюсь выпустить домашний, для себя и друзей, диск.
\\ Рассказ художника записан автором книги 17 ноября 2002 года).