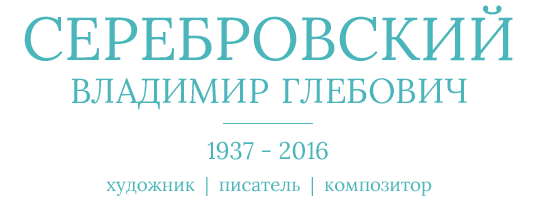Григорьян о Серебровском
Я не фаталист, но иногда мне кажется, что моя встреча с Серебровским была одной из тех редких ободряющих улыбок судьбы, которые потом счастли-во сопровождают тебя всю жизнь. А если учесть, что наше знакомство состоялось в самом начале моей профессиональной деятельности, то, надо признать, я должен быть благодарен судьбе вдвойне. Тогда я, выпускник ЛГИТМиКа, работал над своим дипломным спектаклем в Свердловском (ныне Екатерининбургском) драматическом театре. Для постановки я выбрал "Обыкновенную историю" И.Гончарова. Репетиции были уже в полном разгаре, когда возникли неожиданные сложности с местным художником. Мне была необходима сценическая среда, которая помогала бы выявить метафизические истоки романа, художник же, раз за разом предлагал декорацию, перенасыщенную бытом. Ситуация зашла в тупик и руководство театра разрешило мне пригласить художника со стороны. Вечером я, перебирая в уме фамилии известных мне художников, пошел в местный оперный театр на премьеру спектакля, названия которого уже не помню. Но прекрасно помню впечатление, какое произвело на меня его оформление. Это было редкое сочетание театральной выразительности и вкуса, которое свойственно "породистым" художникам, чей талант обеспечен мощным запасом общей культуры. Но особенно покорила меня едва заметная, провоцирующая необязательность, которая легкими штрихами была прочерчена в сценографии.
Спектакль игрался без занавеса и начинался с того, что со сцены укатывался настоящий мотоцикл, который в дальнейшем не появлялся и в действии, соответственно, никак не участвовал. Между тем, одно присутствие на подмостках столь агрессивной детали из реального мира невольно приковывало внимание зрителей: она находилась в таком будоражащем взаимодействии с декорацией, так контрастировало с самим жанром воинствующей условности, каким, в сущности, является опера, что не могла не воздействовать на воображение. Так, исподволь, совершался первый толчок, побуждающий зрителей к полноправному сотворчеству, которое только и поднимает спектакль до факта общей биографии. Конечно, подобные импровизации весьма рискованны и у не слишком даровитого сценографа подобная "необязательность" воспринималась бы как неуместная шутка, сказанная неумело и невпопад. Однако здесь необходимый эффект был достигнут с такой изысканной легкостью, что невольно рождало радостное предвкушение театрального события: такова безошибочная реакция зрителей на присутствие таланта. Я заглянул в программку и впервые прочитал имя и фамилию художника - Владимир Серебровский. И уже на следующий день ему было предложено оформить "Обыкновенную историю". Позже выяснилось, что это был уже довольно известный московский сценограф и в оперном театре работал по приглашению. Так, в сущности, совершенно случайно и произошло наше знакомство, которое благополучно переросло профессиональные отношения и
органично вылилось в счастливое и содержательное дружество. Но тогда я был только в самом начале открытия для себя этого удивительного художника.
Обстоятельства сложились таким образом, что необходимо было ускорить работу над оформлением "Обыкновенной истории": времени было упущено много и цеха простаивали. Решено было откомандировать меня на несколько дней в Душанбе, где Серебровский любил проводить время, а заодно и сотрудничать с местными театрами. Это была замечательная поездка. После пасмурного и слякотного Екатерининбурга уютный, почти летний Душанбе казался райским уголком. Серебровский был гостеприимен: прежняя сдержанность спала, и он с удовольствием погружал меня в красоты Таджикистана - здесь Серебровский чувствовал себя своим. Особенно мне запомнилась путешествие в горы, в затерявшуюся в Варзобском ущелье чайхану. Я был тогда совершенно очарован, заинтригован тем, с каким вкусом и естественностью мой новый знакомый, стопроцентный европеец, наслаждался покоем и погружался в бесцельную созерцательность: так восточный отшельник с аристократической медлительностью гурмана разгрызает "рисинки" времени. Это было, бесспорно, проявление восточной культуры. Очень скоро я убедился, что Восток занимает важное место в сфере духовных приоритетов Серебровского, и мне было интересно наблюдать в дальнейшем, как этот ценностный опыт проникал в творчество художника. Я возвращался в Екатерининбург полным впечатлений: в чемодане лежали замечательные эскизы декорации, а моя профессиональная заинтересованность в Серебровском дополнилась глубоким интересом к его личности.
Оформление "Обыкновенной истории" составляла композиция из восьми – десяти равновысотных плоскостей. Все эти произвольно расставленные плоскости были помещены в "черный кабинет" сцены и создавали впечатление чего-то вечного, неизменного – это был некий символ первичного мира, насыщенный напряженным ожиданием. Однако, что очень важно, это не была чисто символистская декорация: в процессе спектакля она вдруг обнаруживала удивительную "податливость" и неожиданно создавала вполне реалистические "картины". Достаточно было "подсказывающей" детали – мебели, уличного фонаря, церковной лампады – и мы уже в доме русского дворянина, или на улицах Петербурга, или на службе в православном храме.… Эта способность не выпадать из культуры реалистического театра при самой условной декорации – одна из тайн сценографии Серебровского. Любопытна была и техника изготовления декорации. Все эти плоскости были собраны из деревянных фрагментов и обработаны раствором, по цвету сравнимым с вековой пылью. В результате, декорация обрела необъяснимую способность поглощать сценический свет и, в свою очередь, излучать холодное мерцание. Этот эффект придавал спектаклю особую выразительность. Например, в сцене прогулки по ночному Петербургу молодых героев, это "мерцание" декорации размывало физическую основу их движения, и возникало впечатление, что они парят в невесомости. Так мизансцена, благодаря необычному освещению, очень точно отражала состояние влюблённости персонажей. Особенно интересно художник реализовывал свое понимание времени в "Обыкновенной истории". В спектакле было много картин, но все приметы быта раз, появившись, исчезали бесследно. И хотя места действия в спектакле повторялись, как, например, дом Адуева старшего, Серебровский предпочитал "менять" комнаты, где происходит действие, только бы не связывать себя с необходимостью возвращаться к деталям, которые зрители уже видели. Этот прием, в отличие от тактической задачи, которую художник решал в уже упомянутом мной оперном спектакле, здесь, в "Обыкновенной истории", носил продуманный, глубоко содержательный характер: эти рукотворные приметы времени, появляясь и исчезая, подспудно подкрепляли впечатление временности, эфемерности жизни, доводя восприятие зрителей до предела, за которым кончается время и начинается вечность. Так, первое впечатление зрителей от декорации усиливалось в течение спектакля зримо, предметно.
Завершался спектакль длительной паузой, во время которой зрители оставались наедине с декорацией, к тому времени уже очищенной от каких-либо примет человеческого присутствия. Освещенная как будто далеким светилом, сцена излучала холод и враждебность. И когда смятение, чувство покинутости и человеческого сиротства, охватившее зрителей от воздействия этого метафизического ландшафта, достигало невыносимого предела, в их душах происходила безоговорочная реабилитация молодого Адуева, с его мечтательностью и неосознанным поиском универсального смысла бытия, а шире – спасительной утопии. Такова была сила, внезапно высвободившейся энергии позитивного контекста, таившейся в декорации. Я не раз потом был свидетелем этого феномена творчества Серебровского. Особенно он угадывался в любимых мной эскизах к "Утиной охоте" А.Вампилова. Сценография этого спектакля, который Серебровский осуществил с другим режиссёром, где-то в Прибалтике, поражала своей адекватностью масштабу пьесы замечательного драматурга. И здесь за видимым "нет" скрывалось бурное "да". Удивительно, какими скупыми средствами добивается художник такого результата: Серебровский всегда избегает усложнённого языка, всевозможной театральной машинерии, его сценографическая лексика проста и понятна - у него получается быть новатором, не прибегая к радикальным средствам. Фрост как-то заметил, что поэт не должен говорить очевидные вещи, но сказанное должно быть ясным. Великий американец, надо полагать, имел в виду этику взаимоотношений поэта и читателей, призывая первых всегда оставаться джентльменами и излагать свои мысли просто и доступно. И в этом смысле, максима Фроста вполне приложима к творчеству Серебровского. Однако природа ясности художника имеет более глубокие корни. Её истоки, на мой взгляд, питаются его особой духовно-целостной ментальностью. В наш век безоглядной специализации он сохранил способность универсального восприятия и понимания бытия. Именно благодаря этой культуре универсального понимания Серебровский рано осознал границы искусства - это избавило его творчество от мессианского надрыва, раздвинуло содержательное пространство его сценографии и сообщило ей ясность и глубину. Для Серебровского его художественное дарование служит лишь инструментом реализации интересов, которые находятся далеко за пределами чистой сценографии, и располагаются где-то на пересечении искусства, этики и духовного учительства. Чтобы подкрепить это соображение примером, я думаю, уместно будет, хотя бы вкратце, остановиться ещё на одной нашей совместной работе - я имею в виду "Меру за меру" Шекспира, постановку которой мы осуществили в Смоленске.
Для спектакля Серебровский предложил единую деревянную конструкцию, состоящую из вертикальной плоскости с дверными закрывающимися проемами в два этажа, прилегающей к ней приподнятой площадкой и двумя неровными, расположенными по краям и устремлёнными в зал не то крыльями, не то огромными воротами города. Венчала сооружение композиция, похожая на герб или корону: действие, напомню, происходило в некоем герцогстве. Вся конструкция была весело раскрашена и издали напоминала густое граффити, её деревянные детали прилегали неплотно, и при сценическом свете вся она казалось ажурной, почти воздушной. Со стороны это сооружение выглядело каким-то фантастическим существом. Спектакль игрался без занавеса, и я помню, как зрители замедляли шаг, с любопытством вглядываясь в сцену: так ребенок, сосредоточенно и с заинтересованностью вертит в руках незнакомый предмет, силясь понять его назначение.
Итак, оформление предоставляло три "площадки": собственно сцена, "станок" (приподнятая площадка) и, наконец, двухэтажная стена с проёмами. Таким образом, возникала очень важная для спектакля иерархия мест действия. Например, "внизу", на сцене, актеры использовали приемы фарсового театра, тот же персонаж, попадая на приподнятую площадку, существовал уже в традициях высокой драмы и т. д. Этот приём позволял охватывать почти весь жанровый спектр - от высокой трагедии до откровенного гиньоля в сценах в тюрьме, с её обитателями, Палачом и Страшилой. Нет нужды говорить, с каким азартом окунулись актеры в это жанровое пиршество. Нельзя было без смеха смотреть, как те же Палач и Страшила застывали угрожающими барельефами в проёмах стены, или присутствовать при политических баталиях "сцены" и "площадки", т. е. черни и дворянства. Однако эта полистилистика актерского существования лишь расшифровывала код, заложенный в сценографии художником, и возвращала зрителям представление о многомерности человека, в котором Бог и Дьявол то и дело меняются местами. Так Серебровский выступает спонтанным коммуникатором собственного, универсального мировосприятия. И этот авторский "сюжет" художника прочерчивается как бы поверх пьесы, автономно, не покидая при этом художественного поля автора и спектакля.
Замечателен финал спектакля. Действие закончено, свет медленно гаснет,
все персонажи, ёрничая, вскакивают на площадку, как на подножку уходящего поезда, и в это мгновение конструкция вдруг вздрагивает и превращается в машущую крыльями… бабочку, уносящую прочь отыгравших спектакль актеров. Превращение долгожданное и, тем не менее - неожиданное: так изображение, искусно запрятанное художником в картинку-загадку и упорно ускользавшее от нашего внимания, вдруг проступает ясно, с бесспорной очевидностью. Радостный возглас находки сопровождается в таких случаях недоумением – как же это возможно было не увидеть раньше. Конечно, можно воспринять эту мизансцену только как эффектную метафору нашей планеты, несущей на себе легкомысленное человечество и кувыркающейся где-то в бездне мироздания. Но достаточно небольшого культурного усилия, и мы за этим угадаем стремление художника предупредить возможный пафос глубокомыслия, склонных к театроведческим медитациям шекспироведов. А главное – подчеркнуть, что это всего лишь игра, впечатления, которые исчезнут быстрее, чем разноцветная бабочка растворится в сценическом космосе. Нечто подобное переживал в пьесе и куртуазный Герцог, но лучше эти чувства выразил мудрый Просперо из "Бури":
В этом представленье
Актерами, сказал я, были духи.
И в воздухе, и в воздухе прозрачном,
Свершив свой труд, растаяли они. -
Вот так, подобно призракам без плоти,
Когда-нибудь растают, словно дым,
И тучами увенчанные горы,
И горделивые дворцы и храмы,
И даже весь – о да, весь шар земной.
И как от этих бестелесных масок,
От них не сохранится и следа.
Мы созданы из вещества того же,
Что наши сны. И сном окружена
Вся наша маленькая жизнь.
( пер. Мих. Донского )
Никого не напоминают последние три строчки монолога?… А если я вспомню Чжуан-цзы с его знаменитой притчей о приснившейся ему бабочке?… И не из подсознания ли художника "выпорхнул" именно этот пластический образ?… И не слетела ли, наконец, эта бабочка на сцену театра, чтобы подвергнуть и зрителей искусительному недоумению: приснилась ли им бабочка, или они приснились бабочке?!.. Подобные ассоциации вполне оправданы по отношению к театру, единственно обладающему счастливой привилегией самого экологически чистого вида искусства. Ведь он не оставляет свидетельств, разве что – легенды, а в реальности только впечатления, которые исчезают вместе с теми, кому они когда-то были им дарованы. И в этом смысле театр - тот же сон. Так, в сокровенной лаборатории художника совершается таинство культурной конвергенции, где Запад и Восток сливаются в едином мироощущении. Этот мотив сближения культур нередок в творчестве Серебровского: его можно заметить и в живописи, и в его замечательных заметках об Индии, и, наконец, в его музыкальной деятельности, о которой, к сожалению, знают мало.
Я намеренно остановился на наших самых ранних работах, чтобы показать, насколько тогда уже было зрело и неповторимо дарование Серебровского. Сейчас художник находится в самом расцвете своих творческих сил, спокойно и с достоинством сохраняет свой художественный и духовный суверенитет. Он по-прежнему избегает лукавства сложного и не подается предрассудкам опыта, его талант так же глубок и свеж. Более того, его творчество достигло той пленительной простоты и прозрачности, за которой угадывается просветлённость и гармония самого творца. Особенно это заметно в живописных работах Серебровского, в которых явственно виден отблеск некоей светлой религии, где вера неотделима от поэзии. Для меня же, как и прежде, творчество Серебровского - это длящийся во времени разрешающий аккорд, после которого в душе наступает покой и чистая радость. В такие минуты яснее понимаешь, что в искусстве, в конечном счете, важнее не что и как, а – кто. И чем незауряднее личность, тем неотразимее её воздействие. Особенно, когда это касается театра, с его феноменом сцены, способной таинственным образом "просвечивать" личность творца. И когда я вижу зрителей, застывших в восхищении перед живописной панорамой или пейзажем художника, то вдруг ловлю себя на мысли, что в эти минуты они мне отдаленно напоминают самого Серебровского, которого я наблюдал когда-то в чайхане, подвешенной в Варзобском ущелье: держащим, как кубок, пиалу с зеленым чаем и умиротворённо вкушающим Время.
Ю. Григорьян,
режиссёр.
Москва, апрель 2003г.