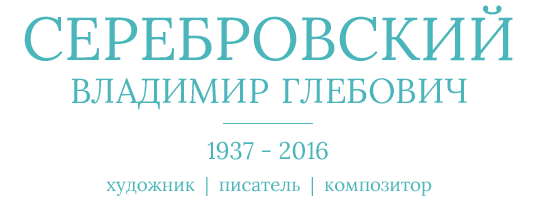Стеклянная любовь
Владимир СЕРЕБРОВСКИЙ
СТЕКЛЯННАЯ ЛЮБОВЬ И ЛЮБОВЬ АЛМАЗНАЯ
(По заказу Института Востоковедения для сборника статей:
«Эротика в русской и восточной философии»)
«Он первый с невиданной смелостью нарушил условное, лживое молчание, громко с неподражаемым талантом, сказал то, что все люди ощущали, но таили в себе, обнаружил всеобщую муку», - писал Бердяев о Розанове.
Что за «всеобщую муку» обнаружил Розанов, о чем нарушил молчание?
«Вопрос о поле и любви имеет центральное значение для всего нашего религиозно-философского и религиозно-общественного миросозерцания» (не более и не менее) - такими словами начинает Бердяев свою книгу «Метафизика пола и любви», и продолжает далее: - «и поразителен заговор молчания об этом вопросе, о нем так мало пишут , так мало говорят, так мало обнаруживают свои переживания в этой области, скрывают то, что должно было бы получить разрешение общее и мировое».
Итак заговор молчания «об этом» был нарушен и роковой русский вопрос «Что делать?» в области, столь нехарактерной для действительно целомудренной русской культуры, был поставлен, нелегкое бремя ответа на который взвалили на себя в основном три русских мыслителя: В.Соловьев, В.Розанов и Н.Бердяев, хотя «дионисическую стихию» тот же Бердяев находит уже у Достоевского, а Мережковский нечто подобное – у Льва Толстого. Так что можно сказать, что русская мысль тоже внесла свой вклад в «мировое решение» этого вопроса. Естественно, что все «мировые решения» и тогда, да и сейчас воспринимаются от лица европейской культуры, в основе которой лежит эллинско-христианская традиция. Тем более интересно сделать некоторые сравнения с решениями «этого вопроса» на Востоке, в частности, в индуистко-буддийской традиции и в учении некоторых индийских мыслителей, современников наших философов.
Оговорюсь сразу, что в восточной традиции (под Востоком и «восточной» и здесь, и далее я подразумеваю только индуистско-буддийскую традицию) решение этого вопроса не носит характер «всеобщей муки», да и сам вопрос не имеет «центрального значения». Все эти «мучения» связаны с традицией христианской, и поэтому прав Бердяев, когда он пишет, что «весь Розанов» есть реакция на «христианскую отраву» пола, и поэтому для него христианство, враждебное полу, есть синоним «религии смерти».
«Спасти» христианство с его «стеклянной любовью» (выражение Розанова) и берутся Соловьев и Бердяев с их учением об Эросе.
Мы вынуждены пользоваться этим греческим термином, не имеющим в русском языке адекватного понятия, основываясь на работах Бердяева.
Собственно говоря, вопрос о любви, о поле, об Эросе для русских мыслителей ни в коем случае не является чисто «половым вопросом», и тут они стоят гораздо ближе к Востоку, чем к Западу, где «этот вопрос» при торжестве позитивизма 19 века и начала 20 века решался на достаточно материалистическом – биологическом уровне. Антихристианский «дионисический» бунт Ницше, в чем-то схожий с розановским, несмотря на скрытый морализм (многие, например, Томас Манн, считали Ницше моралистом), остался бунтом во имя биологической свободы. А захвативший весь Запад фрейдизм, с его «научным» объяснением всех психологических процессов, а также чуть ли не всей истории и культуры с помощью таких понятий как «сексуальные комплексы» и «либидо», а также является слишком материалистически-плоским, что заметил уже Бердяев.
Недаром столпами позитивистской революции тогда считались Фрейд и Маркс.
Для русских мыслителей вопрос об Эросе, о любви есть вопрос, прежде всего, о с в о б о д е человека, о свободе в самом высоком, духовном, божественном смысле, и этот вопрос о свободе очень близок основной идее Востока - идеи о с в о б о ж д е н и я.
И толстовское отрицание пола, и розановское обожествление пола – все это рождено стремлением к свободе, свободе в Боге.
Для Соловьева пол – это возможность постичь высшую мудрость Софию, а, значит, обрести свободу и бессмертие. Для Бердяева пол есть «окно в иной мир», а любовь - «окно в бесконечность». Бердяев признается: «иногда мне кажется, что я любил не столько любовь, сколько свободу».
Вопрос свободы есть отношение конечного и бесконечного. И в этом смысле (и это было замечено русскими мыслителями) пол является как источником рождения и смерти, так и бессмертия.
Бердяев понимал единую природу рождения и смерти, и его слова, что «рождение уже есть начало смерти» - вполне созвучны учению буддизма о двенадцатичленной причинной связи. А бердяевская мысль о том, что «совершенный мир не должен ничего рождать» могла быть высказана любым буддистом.
Отношение конечного и бесконечного – это, по сути дела, и есть основа бердяевского учения об Афродите земной и Афродите небесной, которые олицетворяют два вида любви.
Афродита земная есть воплощение родовой любви, связанной с инстинктом продолжения рода, любви почти «звериной».
Афродита небесная есть воплощение любви личной (в отличие от родовой), когда через любовь к определенному конкретному (тоже «личному») человеку достигается уровень духовной любви к Богу.
Любовь «земная», родовая и безличная для Бердяева, собственно, и не является любовью вовсе, ибо в ней присутствует лишь животный инстинкт (его Бердяев и называет столь модным ныне словом «секс»). Любовь же небесная, неродовая, это и есть личный Эрос, соединение с Вечной женственностью в Боге. При этом, вторая, «небесная любовь» не
является любовью «стеклянной», т.е. не отрицается ее чувственное начало. Бердяев подчеркивает, что, несмотря на ее противоположность родовой любви она не «отвлеченно-духовна», бесплотна, а «конкретно-чувственна» в такой же степени, как и духовна, ибо в основе ее лежит «мистическая чувственность», «непосредственная радость касания и соединения». «Непосредственная радость касания» приводит Бердяева даже к реабилитации сладострастия, которое он также делит на «звериное» и «чистое, святое», а также (трепещите, моралисты!) к оправданию «неестественных» форм любви.
Но как же достигнуть Божественного Эроса, того уровня духовности, где исчезает антиномия конечного и бесконечного, и где «радость касания», сладострастие и «неестественные» формы любви становятся «чистыми и светлыми».
Перефразируя Ницше, Бердяев неожиданно заявляет, что пол – это то, что надлежит преодолеть, ибо «пол – это разрыв. Пока остается этот разрыв – не индивидуальности, нет цельного человека». (Почти как у Кришнамурти, если вместо слова «разрыв» поставить слово «конфликт»).
Эта трагическая нецельность человека заключается по Бердяеву в его п о л о –винчатости, в разделенности на мужское и женское, что лежит в основе мистической диалектике природы Божества. «Томление пола и тайна любви в жажде преодолеть трагический разрыв полов, мистическим слиянием достигнуть вечной, совершенной индивидуальности».
Разделенные бездной, блуждают в своей «трагически страшной» уединенности два любящих существа, и единственная возможность их соединения есть соединение в Боге. Откуда же возникает это разделение, эта уединенность пола, это томление пола?
По Бердяеву и Соловьеву это следствие падения андрогинa - совершенного первочеловека и утерей им Девы – Софии и возникновения женщины Евы. Восстановление первоначальной целостности и есть цель Христова Эроса.
Выделенная из рода личность сразу чувствует свое одиночество и в поисках «радости касания» начинает искать странствующую где-то родственную личность, чтобы соединиться с ней в новом виде неродовой любви. Для чего же нужна эта родственная «любимая», другая личность?
Почему невозможен путь к Богу в одиночестве? Потому что в любимой женщине, в «брате по духу» (лучше «сестре», чтобы остаться в рамках «естественной» формы любви) мы любим образ Единого, Вечного, «самого любимого». Но почему мы не можем любить образ «самого любимого» без помощи женщины или хотя бы «брата по духу»?
Бердяев и Соловьев понимают (и это тоже перекликается с буддийской традицией), что выделение из безличной стихии рода – рост личности связан, прежде всего, с ростом «Я» - «Эго» и связанного с этим ростом эгоцентризма, что, естественно, несовместимо с любовью к «Единому» и «Вечному». Предполагается, что где-то странствует, «томясь в уединенности» другое «Я», полярное, но, вместе с тем, тождественное, нужно найти и полюбить свое другое «Я».
Вместо одного «Эго» возникает два. Соединение двух минусов не дает плюса, поэтому наши мыслители приходят к утешительному выводу, что в личностной, половой (но не родовой) любви происходит жертва «Эго», но сохраняется очищенная от эгоцентризма личность.
Две личности, пожертвовав своим «Эго», становятся андрогином, т.е. соединяются в Боге.
Бердяевское «преодолеть пол» не есть уступка традиционной христианской морали или, тем более, морали «буржуазной», где на вопросы «про это» - один ответ: «не хочу» (как с юмором выразился Розанов). Нет, речь идет о преодолении пола в смысле его преображения. Христов Эрос у Соловьева не «имманентно-моральный», он преображает плоть и этим преодолевает пол.
Этот преображенный пол и есть Божественный Эрос, Афродита Небесная, которые противоположны конечному – смерти.
Мистическая влюбленность прекращает дробление, рождение и ведет к бессмертию индивидуальности. Только любовь побеждает Смерть.
Таково вкратце учение о любви наших русских мыслителей, которые нарушили «лживое (касающееся пола) молчание» тогдашнего «буржуазного» и «христианского» общества.
На первый взгляд вся восточная (особенно индийская) проникнута эротизмом. Кама-сутра, скульптуры Каджурахо, фрески Аджанты и, конечно же, все, связанное с татнтризмом. Но это не совсем так, во всяком случае, если исходить из бердяевского центрального понятия о «личном Эросе», то он попросту отсутствует в индийско-буддийской традиции. Поэтому все эти изобретения, скульптуры и тантрийские рисунки с точки зрения христианской традиции, а также и с точки зрения «Божественной Афродиты» и «личного Эроса» являются (и так они и воспринимались на Западе в 19 и в начале 20 веков) грубым развратом. Нечто схожее с теорией Бердяева и Соловьева о Божественном Эросе можно найти разве что в учении бхакти, где понятие любви занимает центральное место.
Действительно, в учении и практике бхакти всепоглощающая любовь к Кришне (или к Матери-Кали у Рамакришны) напоминает бердяевско-соловьевскую любовь к «самому любимому», «Вечному», «Единому».
Но все же «направления» этой любви различны, как различен и внутренний «смысл» этой любви.
Для Бердяева любовь (личная) всегда есть видение л и ц а л ю би м о г о (личного) в Боге.
Для бхакта любовь есть видение в лице любого человека л ю б и м о г о Б о г а (безличного). Рамакришна (это подчеркивают все его современники и биографы) в каждой женщине видел, прежде всего, образ Матери-Кали.
Бердяевский Божественный Эрос конкретизируется в любви к конкретной женщине (или брату по духу), в личном эросе, любовь же бхакта лишена эроса (личного), потому что он в любом (следовательно, безлично) человеке видит и любит Бога.
Для Бердяева высшая форма любви - слияние мужественного начала с вечной женственностью в предназначенном Богом конкретном образе. Низшая- самая несовершенная форма любви, направленная на всех людей без исключения.
Долгие месяцы, как мы знаем, Рамакришна проводил у ног любимой Матери (скульптуры), кормил, одевал, украшал и укладывал ее спать, как преданный сын или нежный возлюбленный, пока его всепоглощающая страсть чуть не разрушила весь его организм. Ему не нужен был эротический партнер для соединения в Боге. Он любил только Божественную Мать, а не «родственную душу», свою земную жену, предназначенную ему Богом, не обращал никакого «эротического» внимания, оставив ее целомудренной и видя в ней только ту же Божественную Мать. Вся «личная» любовь Рамакришны, все его «физические действия», все эти одевания, кормления, укладывания спать были направлены, хотя и на нечто «конкретное», но этим конкретным была… скульптура Кали. Кто видел эту скульптуру в Дакшинешваре, знает, как мало она (как и вообще все изображения Кали) напоминает образ «вечной Женственности», образ чего-то человеческого вообще (в европейском представлении). В этом заключается глубокий символизм индийской религиозной жизни, в отличие от языческих культов с их поклонением идолу, как некой самоценности.
Рамакришна молил Мать-Кали явить свой и с т и н н ы й облик, проводя дни и ночи у ног скульптуры. Этот истинный облик может быть совершенно «другим», вспомним, как «обыкновенный» возница Кришна явил Арджуне свой «другой», истинный «нечеловеческий» облик.
Так и пастушки-гопи, (а с ними, как раз, связано многое, так называемое «эротическое» в индийском искусстве), любят не конкретного земного красавца-пастуха Кришну, а «другого» Кришну, Кришну-Бога, самого любимого, Вечного, Единого». Поэтому все их «эротические» действия, любовные утехи с пастушком Кришной есть лишь милая игра, символ иллюзорности мира, символ творческой игры майи, создающий этот иллюзорный мир, за которым находится «другая» реальность, «другой» Кришна.
В обрядах, связанных, например, с днем рождения Кришны, Центральными персонажами его «любовных историй» становятся дети, маленькие девочки, пастушки-гопи, которые хороводят вокруг маленького Кришны, которого тоже часто изображает девочка. И это не случайно. Этим подчеркивается «бесполость», «бестелесность» и символичность этого действия-игры.
Все эти ритуалы, «игры в куклы» с изображениями Кришны (или у Рамакришны со скульптурой Кали) как раз отражают тот безличный характер любви бхакти. Интересна параллель между Рамакришной и Пигмалионом. Пигмалион просит, чтобы скульптура ожила, и она оживает в «этом» же облике. Рамакришна просит Кали перед ее скульптурой явить свой «истинный» облик, и она является в другом облике.
«Бог во всех людях», - говорит Рамакришна.
Так же, как и в случае с пастушками-гопи, было бы неверно видеть в поклонении лингаму у шиваитов некий эротический смысл или проявление фаллического культа),не говорю о генезисе обрядов).
Лингам есть символ Бога. В фаллическом культе наоборот - Божество - сам фаллос. В первом случае «в лице» лингама-фаллоса поклоняются Шиве, во втором - самому фаллосу, как некоей «вещи в себе».
В первом случае сакрален Шива, а лингам есть лишь обычный кусок камня, «замещающий» скрытого Шиву. Во втором - сакрален сам фаллос, скрытый в святилище.
Когда Бердяев писал, что Розанова тянет к древнему иудаизму с его требованием «плодиться и размножаться», он верно заметил эту тягу Розанова вообще к древним фаллическим культам (известна страсть Розанова к собиранию фаллических изображений). «Загадку» пола Розанов искал в «загадке» фаллоса.
Удивительная способность индуистской и буддийской культуры превращать древние культы (фаллические, пастушеские, культы тибетской религии бон) в свою противоположность, в чистый источник высшей духовности.
Но для чего нужен тогда весь этот эротический символизм, которым так насыщена культура и искусство индуизма и буддизма (особенно, связанный с тантризмом)?
Все эти изображения любовных соединений, страстных объятий и актов, собственно говоря, нельзя назвать эротическими (опять-таки, в бердяевском понимании). Известно, что эти сплетения мужских и женских фигур – суть выражение таких абстрактных понятий, как Шакти, Пуруша, Праджня, Упайя и т.д. Но почему символом выбраны столь откровенные сцены? Ведь для выражения идеи мудрости (праджня) и метода (упайя), к примеру, можно было бы найти более абстрактные символы? (хотя и такие тоже имеются).
Восточная традиция, в отличие от христианской, не отрицает и родовую (безличную по Бердяеву) любовь и даже так называемый секс, который у Бердяева прочно связан с понятием «звериный». Поэтому изображение какого-нибудь Махасидхи со своей «подружкой» дакини может трактоваться и как символическое, и как простая «зарисовка с натуры».
Казалось бы, эти противопоставления энергия-покой, мудрость-метод - есть дуалистические понятия, и мужское и женское противопоставление как раз символизирует эту борьбу противоположностей. Но это только на первый взгляд. Этот «дуализм» не сопоставим с христианским противопоставлением добра и зла, света и тьмы, Бога и дьявола, мужчины и женщины.
В христианско-европейской традиции невозможно объединение или даже дополнение одного другим в этих оппозициях. Эта борьба проникает и в сферу пола, хотя единение пола и возможно у Бердяева в Божественном Андрогине.
В тантрийском буддизме, например, нет, прежде всего, этого изначального противопоставления. Понятно, что для обладания мудростью (пассивное начало) нужен метод (активное начало), но это не есть дуалистическое понятие. Символическое соединение мужских и женских фигур не есть единство или борьба противоположностей. Тем более, что эти фигуры не являются даже носителями «мужских» и «женских» объективных качеств. Ведь в индуистском и буддийском тантризме так называемое «женское» и «мужское» начало имеет противоположное значение. Слияние мужских и женских фигур символизирует неразрывность, объединенность, а не соединение чего-то однажды разъединенного.
В этом смысле бердяевский Божественный Андрогин сам рождает двойственность, потому что является противопоставлением половой разделенности, т.е. дуализм выступает в такой форме - с одной стороны совершенный Андрогин, с другой – несовершенные мужское и женское начала вместе.
Так же и христианский символизм брака небесного есть соединение разделенного. Брак – это союз во времени жениха и невесты. В тибетской символике «эротические» мужские и женские фигуры называются Отец и Мать, что означает их воплощенность, свершенность, неразделенность. Жених и Невеста еще «ждут» брака или «стремятся» к браку, но Жених возможен без Невесты, а Невеста может еще только ждать своего суженного, но она Невеста «независимо» от того, придет ли Жених или нет.
Мать, Отец не существуют сами по себе. Сами по себе существуют мужчина и женщина.
Матерью или отцом становятся после соединения, после брака, когда уже есть п л о д этого брака, этого соединения.
Праджня уже соединилась с Упайей и Упайя - с Праджней - единство уже достигнуто, и поэтому оно существует вне времени. Это одновременное существование мудрости и метода не принадлежит времени – это, скорее, напоминает удар молнии, мгновенное просветление. В тибетской иконографии сплетенные, взаимопроникающие мужские и женские фигуры являют собой мандалу, которая относится к области психики, микро- и макрокосмосу.
Это видимое разделение на мужское и женское существует не в реальности, а в нашем уме. Ум порождает двойственность. За пределами видимых или умом порождаемых форм существует только Единое.
Как бы не были экспрессивно-страстными движения «любовных» пар, образующих мандалу, они воспринимаются «в целом» абсолютно статичными (вне времени).
Эротика - это временная протяженность, это движение. Отсутствие эротики - это покой.
Но вернемся к вопросу, почему для выражения абстрактных идей используются столь земные и грубые образы соития.
Пол, как мы уже сказали, на Востоке не является чем-то запретным, и в соединении полов нет никакой греховности. Инстинкт можно претворить в форме обычного деторождения, простого удовольствия (Кама сутра - это учебник для того периода жизни брахмана-домохозяина, когда он находится в расцвете своих биологических сил) и для трансформации в высшие духовные силы (кундалини-йога).
Одно не отрицает другое. Поэтому даже в рамках одной буддийской школы (каргью-па) можно встретить великого Марпу – домохозяина, женатого и имеющего детей, и его великого ученика Миларепу – абсолютного аскета, живущего в пещере - все зависит от кармической предопределенности.
Так называемый «эротизм» в буддийском тантризме показывает как раз эту терпимость к полу, а также важность половой энергии, энергии, которая пронизывает всю жизнь человека, не разделенную на мужскую и женскую, ибо энергия не имеет пола.
«Эротическая символика» понятна и близка каждому, она проста, ибо «дана в опыт» каждому человеку. Но по мере духовного развития человека на высших ступенях медитации ему не нужна уже никакая символика, когда происходит прохождение сквозь символический образ, растворение его в себе.
Тибетская икона рассчитана на разные уровни восприятия и разные уровни сознания.
Так же и изображения полногрудых красавиц на фресках Аджанты – это не плод разгоряченного воображения буддийских монахов-художников, сублимирующих свою «греховную» энергию, а есть лишь принятие жизни такой, какая она есть, в ее естественных формах, которые в то же время являются игрой Майи, т.е. они иллюзорны.
Это очень хорошо выражено в буддийской притче об отшельнике, которого спросили, не видел ли он женщину, прошедшую тут некоторое время назад. На что отшельник ответил:
- Я не видел ни женщину, ни мужчину. Я видел только, как прошел скелет.
Лама Анангарика Говинда говорит, что знание того, что цветок завянет, не лишает нас удовольствия любоваться его красотой.
Знание, что женщина будет однажды скелетом (бесполым, как и положено скелету) не должно нам мешать любоваться ее прекрасными формами.
Но вернемся к нашим философам.
«В сексуальной жизни есть что-то унизительное для человека» - с некоторой долей тоски замечает Бердяев (вспомним розановское «не хочу»).
Сексуальная жизнь сама по себе не может быть ни унизительной, ни безобразной, ни прекрасной, как некое явление природы. Мы наделяем все, что находится вне нес какими-то определительными качествами.
«Вне нас» - это и есть создание двойственности «я» и «другие». В сексуальном акте можно увидеть и проявление звериного инстинкта (Бердяев) и символ божественного творения (Шива и Шакти). Бредяевское отвращение к сексуальности и деторождению можно легко понять и оправдать. Трудно увидеть посторонним взглядом в «безличном» сексуальном акте «других» акт творения универсума. Вот тогда из «безличных» «других» актов Бердяев выделяет личное «я», личную любовь к «личной» возлюбленной, духовной подруге. Личное «я» не столь критично к собственной жизни, (пусть даже сексуальной), ибо личному «эго» свойственно самооправдание и даже самообожествление. Появляется «личный эротизм», любовь Афродиты Небесной и любовь к вечной Женственности, пусть даже в облике «конечной» несовершенной женщины. В то время как «другим» «роду» остается довольствоваться низменной «звериной» страстью Афродиты Земной.
Отождествление себя с «я», с центром, с определенным полом, мы тут же создаем оппозицию в виде «не я», противоположного пола и попадаем в ловушку двойственности.
Пытаясь этого избежать, Бердяев это «не я» определяет как другое «я», но тоже как бы «мое», т.е. тождественное моему «я». Но два «я» - это нонсенс. И тогда первому «я» приписывается признак мужественности, а второму – «вечной женственности», и опять создается двойственность.
«Ужас любви», который чувствует Бердяев - это и есть это состояние двойственности. Но если эта двойственность существует только в нашем уме?
И тут стоит обратиться к учению великого современника Бердяева – Кришнамурти, для которого понятие «любовь» является едва ли не самым главным.
Английское слово «любовь», которым пользуется Кришнамурти, столь же расплывчато, как и русское, и имеет слишком много оттенков. Но истина для Кришнамурти лежит всегда между слов, поэтому эта «любовь» - есть нечто невысказанное, невыразимое.
Естественно, я ни в коем случае не берусь излагать учение Кришнамурти вообще. Интересно простое сопоставление мыслей двух «философов жизни» - Кришнамурти и Бердяева, живших в одна время, в одной и той же Европе и «не встретившихся» ни физически, ни духовно, как, на мой взгляд, до сих пор не может встретиться Восток с Западом.
Хаотический ум рождает двойственность, желание и стремление удовлетворить его. Следовательно, и Эрос рождается в уме. Все эти разделения на низшее и высшее, земное и небесное, Все это томление половой разделенности - есть продукт ума. Проблема преодоления пола также есть следствие деятельности ума – на уровне природы этого быть не может.
Хаотический ум, а не сердце рождает «любовь» - личный Эрос. Подавление инстинкта ведет к еще большему хаосу личности, и в этом смысле личный Эрос является проекцией подавленного инстинкта.
Так что же тогда есть любовь? Кришнамурти вполне в духе индийской традиции пользуется, в основном, отрицаниями, «что не есть»:
любовь - не есть удовольствие;
любовь - не есть желание, ни сексуальное, ни более возвышенное;
любовь не делится на земную и небесную;
любовь не связана с полом;
любовь не связана с памятью, опытом;
любовь лишена Эроса, ибо Эрос рождается центром, отождествлением себя с этим центром:
любовь не должна иметь объекта и субъекта, она не может быть направлена на что-то.
Такая любовь возможна лишь, если существует смерть, смерть в широком смысле, как умирание, умирание каждую минуту всякого опыта, воспоминания, памяти.
Умирание не есть отрицание или подавление, ибо «отрицание» или «подавление» только усиливает то, от чего хотят избавиться. «желание, воля, время должны придти к полному концу. Сознание, ум должны стать абсолютно чистыми, не в смысле отсутствия секса или дурных мыслей – ум должен быть полностью пуст по отношению к знанию».
Знание есть продукт опыта, т.е. оно принадлежит прошлому, времени, а любовь не связана с временем. Любовь не связана и с такими понятиями, как идеал, стремление к нему, стремление чего-то достигнуть – Бога, духовного блаженства. Стремление к идеалу также рождает двойственность.
Любое самое идеальное или духовное стремление есть желание, и оно связано с движением.
«Движение в любом направлении есть время».
Время же связано со страхом, а любовь не может пребывать там, где есть хоть какой-нибудь вид страха.
Отождествление себя с центром, с личностью, с полом и является причиной двойственности. Стремление преодолеть двойственность приводит к страданию. То страдание, которое описывает Бердяев – странствование в раздвоенности, в неполноте. Обретение утерянной полноты с помощью некоей духовно-чувственной садханы – вот цель Бердяева, вот путь к Богу, к свободе. С точки зрения Кришнамурти любая садхана – это, по его выражению, «взгляд на мир через окно». Любая замкнутая на себе попытка достичь какого-либо идеала и связанного с этим отрицания чего-то (будь то секс или вообще повседневная рутинная жизнь) есть по мнению Кришнамуртии некий вид месмеризма, т.е. сомнамбулического состояния закрытности. А любовь это как раз полная открытость, открытое пространство, лишенное центра, субъекта, времени. Любовь – это абсолютный покой, но это не есть существование с отключенными чувствами, «стеклянная» любовь».
Кришнамурти говорит, что любовь это страстное, напряженное восприятие всеми чувствами тотального процесса жизни. Кришнамурти постоянно напоминает о «наблюдении», что в буддизме называется «саттипатана», а по-русски можно было бы выразить, как «помнить себя».
«Помнить себя» без центра, без «я» - это и есть восприятие тотального процесса жизни всеми чувствами. «Помнить себя» - это нечто противоположное «раствориться» в чем-то, в любви, в Боге. Видеть вещи такими, какие они есть в действительности, не означает «стеклянного» к ним отношения. Учение Кришнамурти о любви совершенно лишено бытового, «буржуазного» (это слово употребляют и Бердяев и Кришнамурти) морализирования. Общественную, как традиционно-религиозную мораль, Кришнамурти считает лживой. Когда исчезает двойственность, то и половая жизнь и секс получают совершенно иной смысл. Как бы вторя Ламе, Анагарике, Говинде. Кришнамурти говорит о прелести и красоте цветка, и мы не должны отрицать эту прелесть и красоту. Но созерцание красоты не есть наслаждение мысли, а именно мысль привносит чувство удовольствия, т.е. несвободу, возникающую от желания еще и еще испытать это чувство удовольствия.
Умение видеть вещи такими, какие они есть – это пребывание в состоянии неборьбы, ненасилия. Последнее особенно важно, ибо «нормальная» любовь связана с насилием (это чувствует и Бердяев, когда говорит о неразрывности любви с ненавистью). И все же такое понимание любви может показаться слишком «бесчувственным», лишенным теплоты любви «земной» и экстаза любви небесной. Но к истине не приложимы качественные определения, такие, как хорошее, доброе, красивое и т.д. Истина есть истина – она не может быть хорошей или плохой, теплой или холодной.
Любовь есть любовь и ничего более.
Любовь и смерть вне времени, - говорит Кришнамурти.
Русские мыслители нарушили «лживое молчание», окружающее «запретную» тему. Они попытались реабилитировать пол, а значит жизнь. Они отвергли буржуазную мораль как ханжескую и даже восстали против христианской «стеклянной» любви. Они искали истину и свободу и в этих духовных поисках ушли намного дальше, чем их западные современники – позитивисты.
Они сделали несколько интуитивных шагов в сторону Востока, но все же в диалоге Запад-Восток, который проходит через сердце русского человека (Россия – Евразия), они во многом остались верны европейской, западной традиции и это не удивительно, ибо они были детьми этой традиции и культуры. Основные понятия «веселой науки» о любви оттуда.
Падение Андрогинна и появление «греховной» Евы (грехопадение); жертва Эго; Преображение плоти; Воскресение (победа любви над смертью).
Грехопадение, жертва, преображение, воскресение – все это типично христианское понятие, хотя и прилагаются они к совсем не христианскому учению об Эросе. В этой попытке соединить несоединимое можно увидеть и кризис христианской (православной) мысли и определенный декаданс вообще, столь свойственный культуре начала XX века!
Попытка соединить эллинскую и христианскую традицию «удалась» в Европе, о чем свидетельствует эпоха Возрождения, которой не было в России и которая считалась чуть ли не высшим проявлением европейского гения. Но есть и другая точка зрения, что так называемое «Возрождение» - это, по выражению Фернана Леже, - «типичная эпоха упадка» - эпоха кризиса и декаданса западного христианства, которая закончилась полной победой атеизма в европейской культуре последних двух столетий и торжеством отнюдь не Божественного Эроса и Афродиты, ни земной, ни небесной, а скорее продажной. В этом смысле русских религиозных философов можно назвать, может быть, послушными христианскими идеалистами, которые сделали попытку соединить строгую нравственность православия с культурой «Заката Европы», давно уже потерявшей свою целомудренность. Но за скобками осталась жизнь такая, какая она есть в действительности.
Отвергнув Афродиту земную, Соловьев и Бердяев все равно вернулись к «стеклянной» любви Афродиты Небесной, хотя они и пытались наполнить ее чувствительность и личным эросом. Таков закон двойственности, рожденный нашим умом – пока существует полнокровная, земная, греховная, звериная любовь Афродиты земной, будет существовать и бескровная, бесполая, андрогенная, стеклянная любовь Афродиты Небесной, ибо эта стеклянная любовь есть лишь плоская, одномерная и хрупкая проекция любви земной, готовая разбиться вдребезги при любом соприкосновении с реальностью, (с вещами как они есть). И кроме того, отвергнутая Афродита Земная будет постоянно преследовать нас в виде персонифицированного греха, отовсюду подстерегающих нас соблазнов, вызывать «томление» плоти, бердяевский «ужас» любви, а также и «божественный» личный Эрос, который есть лишь следствие отвержения злокозне иной земной Афродиты.
Несмотря на суровые запреты христианства, пол то и дело прорывался наружу и находил лазейки для своего самоутверждения в христианской культуре в культуре Мадонна, например, и почти «чувственном обожании Христа» в средневековье (об этом пишет Бердяев), точно также, как поначалу слабенький росток, стебелек растения находит трещины в камне, пока не вырвется наружу и постепенно не разрушит весь камень. И сколько ни укрощали и ни бечевали свою плоть христианские аскеты, она, эта плоть, прорывалась наружу в культуре и искусстве Возрождения в самых «наглых», откровенных формах, пока постепенно не уничтожила всю каменную церковную мораль. Многие видят в этом карнавальном торжестве плоти проявление здоровья, торжества природы и т.д. Но с другой очки зрения нет ничего более болезненного, чем карнавал, этой реакции на запрет, где все запретное принимает отрофированные (а следовательно нездоровые) формы. Карнавал – это символ того хаоса и разрушения личности, которая является следствием подавления чего-либо. В борьбе поста и масленицы в европейской цивилизации победила масленица с ее бесконечной жаждой самоутверждения (потребления – как сказал бы и сейчас). Победила Афродита карнавальная, площадная.
Восточные учителя – от Будды до Кришнамурти – в отличие т западных религиозных мыслителей исследуют природу человеческой психики, природу ума, который и есть источник двойственности, и связанным с этим конфликтом и страданием. Они не отрицают земное как греховное, ибо понятие греха (не в бытовом, а метафизическом смысле) тоже существует только в нашем уме, но не вне его. Но там, где нет греха, нет грехопадения, где нет грехопадения, нет Афродиты земной и нет стремления к Афродите Небесной, ибо отвержение первой и стремление ко второй имеет один источник – желание; желание, рожденное умом и являющееся в свою очередь источником страдания. Но самое главное отличие восточной мысли заключается в отсутствии самого понятия мысли самоценной личности, - центрального понятия мысли западной. Личность, которая с помощью аскетизма в одном случае или с помощью «личного Эроса» и соединения с Вечной женственностью в другом, хочет сохранить себя любым способом для достижения бессмертия. С точки зрения же буддизма нельзя сохранить то, чего нет.
Если уж пользоваться поэтическими определениями, то в отличие от христианской любви, которую Розанов назвал стеклянной. Любовь, о которой говорит Кришнамурти, я назвал бы алмазной.
Алмаз имеет объем, но вместе с тем он как бы и нематериален, он прозрачен, но не хрупок, он тверже камня. Его грани, как в калейдоскопе отражают мир и преломляя свет, расщепляют его на множество радужных цветов. Но в то же время этот отраженных мир не является материальным, а становится игрой цвета и форм – майей – иллюзией.
Алмазная любовь не отвергает жизнь, а отражает ее, не привязываясь к ней желаниями и жаждой их удовлетворения. Алмазная любовь «наблюдает» жизнь без принятия и отвержения как это происходит в отражении зеркала.
Алмазная любовь – это молния-ваджра, мгновенная «вне времени» - вспышка которой озаряет человека и позволяет ему видеть единство всего сущего.
Есть буддийская притча о двух монахах. Один из них помог женщине перебраться на другой берег ручья, монахи продолжили и молчании свой путь. Через некоторое время второй монах обратился к первому, к тому, что перенес женщину, со словами: «Ты нарушил монашеский обет, прикоснувшись к женщине». На что первый монах ответил: «Я оставил ее на том берегу, а ты до сих пор ее несешь».
По отношению к нашей теме можно было бы сказать, что второй монах символизирует западно-христианскую традицию, а первый – восточную.