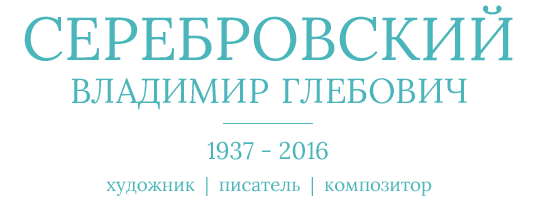Воспоминания о Васильеве АП
В восьмидесятые годы я приехал в Прагу делать декорации к спектаклю «Утиная охота» в «Театре на виноградах». Работники цехов сначала отнеслись ко мне довольно прохладно – русских тогда не очень жаловали. Кто-то сказал: «У нас тут делал спектакль один из Москвы – Васильев. Знаете такого?». Конечно, знаю, и даже очень хорошо. Кто-то заговорил высоким голосом, подражая манере Васильева, выкрикивая пару русских слов. Все заулыбались, напряженность исчезла, и у меня образовались самые теплые отношения с этими работниками цехов. Васильев помог – умел расположить к себе людей.
Когда в 60-е годы мы – молодые художники – пришли в театр, мы не стали чужими, или даже конкурентами, несмотря на наш гонор. Так называемые «старшие товарищи» по цеху встретили нас очень благожелательно и тепло. Среди них были Рындин, Лушин и, конечно, Васильев Александр Павлович. И с ним наше общение было особенно тесным. Но как художника я, например, оценил его позже. В молодости я был, конечно, «левым» и больше интересовался французами, чем нашими мастерами. Но когда я «открыл» для себя нашу школу декорационного искусства, идущего от «Мира искусства», я увидел, что Александр Павлович Васильев – «живой классик» - продолжатель этой нашей традиции. Он не чужд был экспериментам 60-х годов, но вернулся к традиционной «классической» декорации в начале 70-х. Это бы «Лес» в Малом театре. Я же двумя годами позже проделал тот же поворот в «Якове Богомолове» и в «Трех сестрах». Тогда это вызвало некоторое удивление, но так получилось, что Васильев стал наиболее близким для меня художником театра. Надеюсь, что и я был ему достаточно близок. Однажды, когда у Васильева что-то не заладилось в Малом с Ильинским (это был, кажется, «Вишневый сад»), он порекомендовал вместо себя – меня. Спектакль не состоялся, но степень доверия Александра Павловича я оценил.
Чем же привлекал Васильев к себе людей. Ведь он, бывало, и кричал и топал ногами, когда был чем-то недоволен. «Он пугает, а нам не страшно». Мы видели, что это - немножко театр. В театре и на сцене, и за кулисами переизбыток эмоций – обычное явление. Васильев – «Человек – театр». Это видно и в эскизах (повышенная живописная театральность), и в живописи. Живопись его я узнал позже. Семидесятилетие Васильева – банкет в «Праге» - много народу, академики, речи, тосты.… Но и здесь занавес должен опуститься. Александр Павлович тихо зовет меня и Сергея Бархина к себе в мастерскую, предварительно шепнув, «Собери-ка красную рыбу с сумку, чтобы этим не досталось», кивнув в сторону официантов. Сумку я потом отмывал неделю, она все равно пахла рыбой долгие месяцы. Итак, ночь, мы в мастерской, и тут начинается новое представление – одна за другой появляются работы трех или четырех размеров, которые тут же вставляются в три или четыре рамы того же размера. Этот прием я тогда усвоил и делаю так же до сих пор. Нам открылся мир живописи Васильева – тоже театрализованный. Люди-балбетки, вернее, балбетки-люди, гуляющие по полям-садам. Натюрморты из театральной бутафории и частей костюмов – шляп, вперемешку с подлинными красивыми вещами (Васильев знал толк в старой мебели, в антиквариате - старая школа). Какие-то странные фигуры битников или хиппи – «Боб» или «Джон» (не помню) в пестрой одежде среди экзотической растительности. Просто портреты, но тоже слегка театрализованные. «Очень дорогая гадалка» - это как будто бы Анаит Оганесян. Вот Левенталь, элегантный, при бабочке. «А вот это Вы, Володя», обращается он ко мне и показывает холст, на котором полуголый мужик, сидящий перед холстом, к нам спиной. Так как это все фантазии без натуры, то человек со спины мог быть кем угодно – кроме лысины, других примет моих нет.
А теперь вспомним – ведь и мироискусстники тоже театрализовали живопись. Бенуа, Судейкин, Сомов – все эти костюмированные балы на фоне декораций-задников под 18 век. Все эти арлекины, коломбины – это же театр. Мироискусстники перенесли живопись на сцену в театр, а театр перенесли в свою живопись.
Когда-то известный критик начала 20 века Сергей Маковский писал о художниках-мироискусстниках: «Художники сделались страстными театралами, двинулись штурмом на храм Мельпомены, превратились в слуг ее ревностных, в бутафоров, гримеров и постановщиков. Можно сказать, что знаменательный для наших 90-х годов расцвет театрального новаторства наполовину создан живописцами. До такой степени, что стало своевременным говорить и засилье театра живописью и о порабощении живописи театром».
Таков и Васильев. Про технику я не говорю – это особый разговор – работа с пигментами на желтке. В натюрмортах особенно видно это мастерство.
Какова роль художника, вернее, его личности в театре, я понял, когда в Академии художеств состоялась персональная выставка Васильева – такого количества народа на открытии я давно не видел – это был цвет московской интеллигенции, конечно, в первую очередь, театральной. Все знали Васильева. А ведь это не часто бывает – театральный художник мало известен публике, да и в театре теперь мы где-то в тени (сами виноваты). А вот так как Васильев – подтянутый, в бабочке, а вокруг прекрасные дали с цветами. Вспомнил автопортреты Головина - везде элегантен и с бабочкой. С этого и начинается человек театра. Художник театра тоже немного актер, он тоже должен играть – перевоплощаться из пьесы в пьесу. А как же иначе? У унылого и серого человека будет унылая и серая декорация. И если театр – зрелище в высоком смысле, то оно должно быть, в первую очередь, красивым, эстетичным.
Таким художником театра и был Васильев. Такие люди, к сожалению, уходят в прошлое.
А теперь немного мистики. Я несколько раз бывал в мастерской Александра Павловича – хотел узнать тайны васильевских грунтов (К тому времени я тоже бросил масляные краски и перешел на гуашь). Александр Павлович много экспериментировал в области технологии живописи и охотно делился своими открытиями. Прошли годы, и мастерская Васильева досталась мне (тоже некий знак судьбы). Как-то раз я в очередной раз разбирал сильно заваленный чердак, примыкающий к мастерской (требование пожарных). И вот среди старых полуразвалившихся рам и подрамников при свете тусклой лампочки я разглядел портрет в раме и под стеклом. На портрете полуголый человек со всклокоченной бородой спиной к зрителю сидел перед чистым холстом. А на обратной стороне портрета рукой Александра Павловича написано: «Портрет художника Серебровского» и немного ниже «Проба грунта».